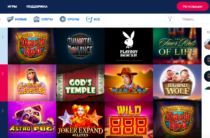Мы предлагаем вашему вниманию неопубликованный рассказ Дибаша Беруковича, написанный им незадолго до своей смерти.
Дибаш Каинчин
Свобода ли?
Я просто так взглянул в окно…
Наш «писательский дом» со стороны автошколы ограждён бетонными тумбами; к тумбе, которая под моими окнами, подошли двое – мужчина и женщина. Мужчина среднего роста, чернявый, поджарый, женщина дородная и чуть ли не на голову выше своего спутника. Оба пожилые, одетые, несмотря на жаркий день, в замызганные куртки. Сразу видно – бомжи, всё, что есть, носим на себе, потому как оставить негде. У обоих в руках по большому пакету с надписью «Мария-Ра». А о содержимом пакетов лучше и не гадать.
Меня они не удивили: место это облюбованное для распития известных напитков, а свято место, как говорится, пусто не бывает – если не бомжи, так молодежь, если не молодежь, то бомжи. Что ни говори, удобно здесь – скрытно и глухо; кругом кусты, сверху нависает зелень ветвей, а сзади — вовсе стена гаража и теплотрасса. И люди тут проходят редко. Да и пусть проходят, кому сейчас какое дело? Как бы самому…
Всё лето не пусто здесь — по двое, по трое, а иногда их целая куча. Бомжи или молодежь, которой захотелось на свежий воздух. Это днём. А что здесь деется ночью, о том можно догадываться только по звукам. С вечера обычно воркование, смех, песни, к полуночи — галдеж, выкрики, ругань, возможно, и драка, и все это оканчивается к рассвету женским плачем, истерикой, топотом убегающих или догоняющих…
И еще одно, чуть ли не главное – неподалеку круглосуточный ларёк. Им-то хорошо, а вот нам, жителям здешним…
Женщина расстелила на поверхность тумбы газетку. Мужчина достал из пакета тёмную пластмассовую бутылку с пивом, называемую в народе «полторашкой», а неизменная чекушка водки, видимо, у него в кармане. Женщина положила на газетку всего-то полбулки хлеба и ополовиненный кубик сырка. Да еще из кармана достала нечто плоское, сыпучее, видимо, орехи китайские — арахис. Мужчина вывернул пробку, и я подумал, что он тут же припадет к горлышку. Но он поставил бутылку к той скромной закуске и, сказав что-то, поспешил к мусорным контейнерам.
Женщина в ожидании его присела на край тумбы. Сняла с себя залоснившуюся куртку, осталась в серой кофте. И тут она принялась охорашиваться: погладила себе лицо, пригладила седые космы, убрала их под платок, поправила воротник и так старательно принялась отряхиваться — как бы где какая соринка. Поводила плечами, приподняла голову, выпрямилась. Втянула живот и ждёт, не дышит… Пошарила по карманам, видимо, искала зеркальце, но не нашла. Казалось бы, зачем ей… В её-то положении, в её-то годы? «Женщина – она всегда женщина, — подумалось мне. — Для неё не всё равно. Какая бы она ни была… Ей непременно надо выглядеть… Моложе выглядеть… Хотя бы на чуточку… Красивее, бойчее… Или, как сейчас принято, сексуальнее». Видно, дорог для нее мужчина. И не скрыть было того, что она рада. Что нашла-таки… Хотя бы и временно… Будь что будет…»
Мужчина возвратился поспешно. А принес-то он всего два одноразовых пластиковых стаканчика. «К чему они… Было бы что выпить…» И тут он мне показался… Знакомым показался он. Не Матвей ли? Да Матвей же он, Матвей! Вот тебе раз… А по фамилии — Митрофанов… Да, да, Митрофанов. Года два назад лежали в одной палате в глазном отделении. Нам вырезали катаракты. Да, да, это он, он…
Лица у обоих еще не обрели землистого цвета. Значит, бомжуют не так давно.
***
Матвей Митрофанов… Из Усть-Коксы он. Из Мульты, что на том берегу Катуни. А вернее, не помнится точно из какой. Сейчас ему, должно быть, шестьдесят восемь. На один глаз он был и так слеп. Единственный здоровый заволокло катарактой. Вот почему мы оказались в одной палате.
С первого взгляда он показался мне хорошим человеком. Человеком притягивающим, располагающим к себе. Четыре сына у него, три дочери. А внуков-правнуков у него двадцать шесть. Всю жизнь проработал трактористом. По его словам, трактористом-передовиком. Столько у него грамот, премий!.. Даже медаль какая-то.
Не ошибся я – он оказался человеком общительным, и к тому же легким на ногу. Не сидится ему. Чуть чего – потянуло его: он обошел все палаты, познакомился и, конечно, побалагурил. У него нет комплексов, как сам выразился о себе, он «человек-шнырь». Несмотря на возраст, всегда в движении, в любопытстве. Поджарый, жилистый, сутулился он: «Чо не ем, не в коня корм». Видно, что Бог создал его для сельской работы и дал всё, чтобы ему работалось в охотку: здоровья, силы, легкости и оптимизма. И по виду Матвея, особенно по лицу его и сутулости, было видно, что он справно исполнял предначертанное. Да судить хотя бы по его детям, по потомству его многочисленному – не прокормить ему их лежа на кровати. Он всем детям справил свадьбы, по возможности построил дома. Трое окончили университеты в Барнауле и Новосибирске.
И никого не оскорбит его, ну, такая, например, легкая издевка: «Поди, жил в лесу, молился пню и слаще брюквы ничего не ел?» Это потому, что он не забывает такое же и о себе: «Ну и морда у меня красива. Как верблюд с месяц жевал».
«Я же азиат, — раскорячит ноги. – Все у меня скуласты родятся да без мыла бреются. Знаю я, это проделки моего прадеда Кармана. И не то ещё будет». Широкогрудый, остроплечий, руки до колен, коротконогий, он и вправду смахивал на азиата.
Часто переходил на алтайский, что сейчас большая редкость. Хотя языком владел не так свободно, но заметно, что нравится ему поговорить на алтайском: «В Ине учился на механизатора широкого профиля. Друзья были алтайцы. Три года в армии… Как же там без земляков: Байрам, Адучи, Куреш. Да еще два года и три месяца отмотал в Рубцовске. Известно, что в тюрьме, иначе зачем мне там. И уж там-то никак без своих: Тодошев, Кыпчаков, Айтышев… Много было их у меня. И сейчас… Сват у меня Мундусов, да еще сватья…»
В палате нас было шестеро. Соседом по койке Матвею лежал старик, бывший прокурор. Было ему далеко за восемьдесят. Старик как старик, как и все старики. Но как выйдет он куда, Матвей ему вслед: «Такой же и законопатил меня». А в его присутствии о том ни слова. Вот только как старик позевает, Матвею не лень, он не упустит:
— «Хо-хо-ха-а», — зевнула сноха. «С кем будет спать сноха?» — спросил у ней дед. «С Богом, батюшка, с Богом». — «Ну тогда твои онучи пусть он и чинит!» — и бросил дед снохины онучи в угол.
И старик-прокурор при нём перестал зевать. «Двадцать шесть внуков у него! Да ты и есть олигарх! – завидно ему. – А у меня всего один». Но от этого на лице Матвея не видно радости.
— За что тебя? – спросил я у Матвея.
— Да за то… Как-то не подумал, послал я одного такого. Какая масть — такая власть… И там я был передовиком. Ящики сколачивали. И там ежедневно перевыполнял нормы. И поведение у меня примерное. Отпустили досрочно.
***
Хорошо в палате, если окажется такой, ну, как Матвей:
— Слепой и одноглазый, ну, как я. Ночь тёмная, а за лесом в деревне девки поют. «Пойдем к ним», — говорит слепой. «А как пойдем-то?» — «У тебя один глаз. Ты и поведёшь». Идут они. И тут одноглазый как раз тем глазом напоролся на сук: «Ой-ой-ой! Вот и пришли!..» А слепой тут радостно: «Здравствуйте, девоньки!..»
Из других палат у нас всегда гости. Это всё из-за Матвея, его хотят послушать – ведь надо как-то «убить время». И особенно воодушевится Матвей при женщинах. Вот идёт навстречу ему по коридору женщина; оба глаза у ней в повязках, идет она и шарит впереди себя руками. «О, любовница моя!» — восторженно встречает её Матвей. «Давай в кусты!» — не растерялась женщина и слегка приподняла подол. Смеётся вся очередь в перевязочную, и они, Матвей и та женщина, отныне для нас «жених и невеста».
Нет конца анекдотам Матвея. Ему все равно где рассказывать и сколько у него слушателей: «Куды несёсси, карга! Сидела бы на печи!» — «Здравствуй, касатик, здравствуй, миленький. Долго тебя не видела. Как у тебя маманя? Как папаня? А я слепну и слепну. И слышать стала плохо».
Как говорят, вшивый о бане. У нас разговор больше о глазах, о зрении.
— Бабка Анисья, слепенькая, жила у нас на краю села. После армии, лет через семь, наверное, как-то захожу к ней. Она мне тут же: «Проходи, Матвей». – «Как узнала-то?» — «Да я твою походку еще за речкою услышала».
Техничка для Матвея – шнырь, ложка – ротный миномет, пехота – сто прошла, еще охота. «Пойду, председателя подёргаю за воротник» — это он пошёл в туалет. Иногда он один как бы сам с собою разговаривает. Возможно, вспоминает анекдот какой и мусолит его, чтобы получше рассказать: «Скоко вам лет?» — «Много. Столько не живут». Или: «Я бы съел, но кто мне даст?.. Нет, нет, дать-то она даст, а вот не во что завернуть».
«Кавказец кроет крышу. Поскользнулся он, упал и катится вниз по крыше. «Дэржи, дэржи», — кричит он, как зарезанный. Но крыша кончилась: «Ну, тэпэр пошла-а-а…».
Иногда перейдёт на алтайский:
— Вот молодчина! – хвалит начальство доярку. – Это надо же, зимой с коровы по четыре литра.
— А я и по пять смогу.
— А по шесть?
— Не-а. Тогда жидко получится…
Я услышал от него слово «подтасок». Это чурка, которую привязывают к медвежьему капкану.
***
Но не всегда о весёлом.
— Жену свою, Настасью Тимофеевну, похоронил как королеву, — сидел он понуро на кровати. – Год всего-то не дотянули до золотой свадьбы. Семерых подняли. Не-е, трудно не было. А может, это для меня… Мне-то что… Нас так и называли — «сладкая парочка». «Он в мазуте – тракторист, она в навозе – доярочка». Слегла. Два года болела. Дети – они и дети, это я сам всегда был возле неё. Куды только не возил… Ещё бы столько болела – сидел бы с нею…
И умолк надолго.
— Всем селом проводили. С района начальство приезжало. Ведь доярка была передовая. Три ордена у неё. Резали телочку годовалую да борова. У нас не держат овечек. Съездили в Ак-Кобы, привёзли двух барашек… И вот с тех пор, считай, у меня всё пошло наперекосяк…
***
— Мне жена сказала: «Не женись, Павлуша», — как-то проговорился со своей кровати старик-прокурор. – Я и не женился. Уже лет как двадцать…
— А мне жена сказала: «Женись, не шастай по бабам», — Матвей чуть ли не подпрыгнул лёжа, резко поднялся и сел. – Лишь щёлкни пальцами… В городе этом нашлася одна. На Колхозной улице. На самой верхотуре. Тогда не было там воды. Все лето носил воду, поливал её огород. Еще изба у ей недостроена… Баня… Изгородь… Столько у ей работы! Как присяду где, чтоб передохнуть, так она готова мне шило сунуть под зад. И всё же пришло мне в ум: что это я ишачу-то? За что?.. Чужой человек… Да я же для неё батрак бесплатный. Ушёл я. Лучше для детей своих буду…
Старшому, Стёпе, я тогда купил дом. Тут купили, неподалеку, на Каясе. Хороший дом. Откуда у меня сбережения, взяли кредит. Благо, Стёпа мой работает в банке. Еще один сын, средний он у меня, Николаша, тоже переехал. И ему сложились, купили участок. На Бочкарёвке. Он сейчас там и строится. Как же ему без меня… И вот в прошлом годе я перевез к нему, в его огород, свою баню из деревни. Тесно, но куды денесси. Зато хорошо мне там в своей бане. И инструменты свои все туды привёз. Не скажу, что я плотник или столяр хороший. Я же механизатор, больше по железу. Но вот топорища… Руки у меня так и чешутся на них. Отец у меня был такой. Это он меня привадил… Есть позабуду… Лишь бы… Как насажу, начну стёклышком, стёклышком, стёклышком… Тру и тру… Хорошо-то как… И вот оно у меня само просится в руки. Будто рыбка… Тут и поставлю его в ряд. Красота-то какая! С десяток их у меня! Ух, стоят, красавцы! Раньше, когда в деревне жил, пораздаю. Это когда выпил. А, вернее, ко мне приходят, когда заметят: «Отдай, дядя Матвей…» По-теперешнему, спрос был на мои топорища. А сейчас несу их в хозмаг. Деньги… А комли берёзовые заготовлю весною. Чуть ли не с целый куб. Высушатся они у меня за лето.
Николаю надо стало на крышу. А жена у него сидит с ребёнком. Я устроился в автозаправку. Хорошо мне. Сторожу. Подмету, порядок у меня. Где починю, если что. И вот является хозяйка. Машина у неё крутая. Слезла и, надо же, ляпнула: «Матвеюшка, давай-ка, сойдёмся». Пришлось уходить. Знаю я… Она будет в своей Белокурихе, а мне тут караулить её автозаправку. Нет уж…
Взяли грузчиком в продмаг, в «Разноторг». Всего полно, но нельзя… Я и не притрагивался. Зачем мне… Иногда нагрузят на меня мешок с мелочью. И несу я его в «Энергобанк». Кому это придёт в ум. Идет себе старик, ну и пусть… Как-то истёк срок консервным банкам. Больши-ие такие банки, с селёдкой. Погрузил я их, привез к себе. Как раз сажали картошку. И я в каждую лунку — по большо-ой селёдке. Хороша выросла картошка!..
И напоследок нашлася еще одна. Строгая такая, крепкое у неё хозяйство. Муж у ей был в больших должностях. Я, как всегда, со своим топорищем, а она сидит и смотрит. Не люблю я это, чтоб под руки… Недолго у нас гармошка играла. Купил я на базаре для её кур ведро комбикорма. Она тут на меня: «Зачем дорогое покупал?!» — «На свою же пенсию купил. Не на твои деньги». – «Тогда сматывай манатки!» Мне-то что… Жопа об жопу — и до свиданья, дорогая… И сейчас не пойму: на свои же деньги покупал. Для её кур… Не врублюсь чего-то…
***
Золотая, оказывается, у меня была теща. Марфа Филимоновна, земля ей пухом. Через неё и подняли мы детей. Нам-то некогда. Всё на работе да на работе. Это она с ними. «Детки, мои детки» — не слезало у неё с языка. Вот только когда заболела, ушла помирать от нас к соседке. Видите ли: «Мы оба кержачки. У ей кисель». После я пробовал у ней тот кисель – разве свиньям вылить.
***
Ээ, детки, мои детки… Стёпа, старшой мой, собрался купить машину дров. Я ему говорю: «Купи долготьё. Я тебе распилю и расколю. Дешевле выйдет». Привез он целый «КамАЗ». Раскоржевал я и расколол. Дня три работал, если не больше. Комель один берёзовый мне приглянулся. Крепкий он и витой, семь потов сойдет, пока его расколешь. Лучше на нём топорища тесать. Как раз подъехал на своём «Москвиче» мой Николаша. «Погрузи, — говорю я ему. – Отвезёшь мне». Стёпа мой рядом стоял. И от него я тут слышу: «А ты думашь, я его тебе отдам?» Вот тебе на! Шух! Будто по голове меня ударили. Потемнело в глазах. Обручем сдавило… Как бы не упасть…
Рядом лес… Осинник… Позвало меня туда. Ручеёк там незамерзший… Потащился я туда. Должно полегчать…
«Эх, Стёпа, Стёпа… А еще старшой у меня. Это ты должен после меня… Отвечать за всех нас. Направлять, если что. А ты в кого вырос… Ведь всё тебе отдали, что наработали с твоей мамою. Дом тебе… Старую «Ниву» нашу. Даже ковёр, полученный нами в премию, висит у тебя. И шифоньер, и холодильник. Хотя и старьё… А ты…»
Хожу и хожу. Держу себя, хочу успокоиться. А то как бы удар не хватил. Не дай бог… А зачем?.. Кому я нужен… «Деда! – слышу я тут. – Деда!» Это внучонок мой, Матвейка. Младшой Стёпы. В честь меня его так назвали. Взял внучок меня за руки и привел. Куды денесси-то… А Стёпа мой… Складывает себе поленницу. Даже не взглянул на нас. Будто ничего и не было. А чо с ним поделаешь, такой уж… Своя кровь. Таким уж родил… Но нельзя же так с отцом…
***
Говорю я Николаше: «У тебя крыша высокая. Хочешь под ней мансарду?» – «Давай, батя, давай!» — рад Николаша. «Как весна – начну», — рад и я. Но вскоре замечаю, что слепну. Сперва мурашки черные мельтешили. После как бы туманом стало заволакивать. Тру я, тру, отмываю, но без толку. Чай себе стал переливать. А то и мимо налью. А другой глаз у меня и так не видел. Как раз из армии я вернулся тогда. Свежатины захотелось. Козлы паслися. Дай, думаю, подкрадусь ближе. Знал бы… Снежок первый, поскользнулся я. И покатило, понесло меня вниз. А там скала… Хорошо, что угодил на мох. Глаз у меня там и вытек. Жаль, конечно… Но мог ведь и жизни лишиться…
И представь, каково мне. Один глаз, и он не стал видеть. Не до топорищ… Вычищу себе дорожку, а по краям её на снег высыплю золу. И хожу посерёдке…
***
Сыновья к Матвею не приходили. Через день проведывала дочь его, Аня. И с нею тот мальчонка Матвейка, младшой Стёпы, названный в честь деда. И он, до смешного, вылитый дед. Такой же чернявый, носатый, кареглазый.
Аня – женщина шумная, если не сказать нагловатая. Про неё Матвей почему-то не рассказывал. Приносила она целую корзину пирожков. Пирожки у неё большущие, с ладонь, и чуть ли не горячие: с картошкою, с капустою. «Ничего не знаю», — произносил Матвей и каждому из нас на тумбочку положит по пирожку.
Рады они встрече. Матвейка забирался деду на колени.
— Глаз стал видеть, — рад Матвей. – Тебе стану помогать.
— Ага, не наработался.
— Дровник-то твой надо доколотить.
— И не думай. Тебя будем беречь. Знаю я – какой ты…
Печально Матвею. Огорчился он, когда узнал, что после операции три месяца нельзя нагибаться, поднимать тяжелое, надо остерегаться солнечных лучей.
«Как это, нынче не буду сажать картошку?.. Чо-то не то, чо-то не так…»
***
Сыновья его, Стёпа и Николаша, проведали отца только раз. От них так и несло мужицким здоровьем, силою. «Пахать бы на них», — сказали бы раньше.
— Ваня мой привёл невесту, — заявил Николаша. – Я их поселил в твоей мастерской.
— Ничо себе… А я?.. – так и замер Матвей с открытым ртом. Глаза закатились, и будто бы у него отвалилась челюсть.
— Не трусь, батя, — Стёпа положил руку на плечо отца. – У меня будешь жить. С Матвейкою будете жить. Комнатка теплая, как раз возле печки. Матвейке осенью в школу. Вдвоём будете ходить.
***
— Вишь, а меня даже не спросили, — подошел Матвей к окну, чтобы увидеть, как сыновья отъезжают на его старой «Ниве». – Они таки… Лишь бы им… А я?.. А мне?.. Ведь хозяин я был в своей мастерской. Да чо это я, — обернулся он к нам. – Топорища да топорища… Заладил. Ведь надо бы мне радоваться. Слава богу, что Ваня, внук мой, женится. Уже три года, как из армии… Пить зачал… Может, перестанет… А куда их девать-то Николаше?.. Снимать для них – денег стоит… А Матвейка мой, – улыбнулся он, — это молодой я. Или он в старости – теперешний я. Куды я денусь… В школу будут ходить два Матвея…
***
И сейчас тот Матвей, отец семерых сыновей и дочерей, дед двадцати шести внуков, внучат и правнуков, проработавший всю жизнь, проделавший столько работ, бомж? Нынче и такое может быть, ничего удивительного.
Столько их, бомжей, ходило, брело, тащилось по мусоркам нашего городка, поди не одна тысяча. Сколько трагедий, поломанных судеб… Выходили из подвалов, выползали из канализационных люков. Оборванные, грязные, заросшие, потерявшие все и вся. И само собой, вонючие. Сейчас их редко видать, но нет-нет, да появятся. То ли жизнь стала улучшаться, или увозят их куда дальше от глаз? Как-никак страна у нас, Россия наша, как утверждают, хорошеет и хорошеет.
Жизнь бомжа – что у воина на фронте. Но редко кто выдерживает год или два. Голод, холод, болезни, «палёнка», наркотики… И основная причина, видимо, — «я никому не нужен, и мне не подняться».
Вот видишь, как мужчина еще не пожилой, здоровый, в самой силе, а то и вовсе молодой, роется в мусорном контейнере. Дать бы ему в руки топор или поставить его возле станка. Или посадить бы его в кабину грузовика… Но не нужен обществу его труд, не востребован он — он лишний человек. И было бы так, что у нас всего переизбыток, так нет, наоборот, всего недостаток и всюду всё ещё разруха.
Всем понятно, что это государство, общественный строй виновны, доведшие своего гражданина до такой жизни. И конечно, виновен и сам гражданин. Сдался, опустился…
И женщины ходили в бомжах. И немало. Обычно за одной женщиной брели два-три мужика.
К примеру, ходил один юноша-красавец. Заметен он был: два метра роста, подкову, наверное, гнул руками. Добрый такой, улыбчивый. Но через полгода, вижу, он едва бредёт – полшажками — к мусорке. Опухший весь, отекший, задыхается, лицо в царапинах, в синяках. Потерян он, пусто, потухло у него в глазах. И в помине нет того юноши-красавца. В лице гримаса от боли, в беде он. Бредет, иначе не спастись ему, умрёт от голода. И добредет, мало надежды. Могут оттолкнуть его. Могут и избить… И вскоре его не стало видно…
И сейчас среди них Матвей?..
***
А вот кто его спутница? Та женщина, с которой он… Которая, как принято у нас говорить, водит его за ручку. Зачем мне она и откуда мне её знать? Вот если бы не рассказ его самого. Может, это она?..
У той соседки его, кержачки, к которой ушла помирать его теща, рассказывал Матвей, была дочь. Звали её Фрося. Хорошенькая девчушка. Участливая, это и отличало её. Ей лишь бы помочь кому. Дня не пройдет, чтобы она не забежала к матери Матвея, не помогла ей как-то по мелочи: помыть посуду, прибрать там чего, убрать. А уж побелку избы без неё и представить не могла себе мама Матвея. Ей, конечно, хотелось её в снохи, но Матвей был намного старше: в армии отслужил, отучился на механизатора, а Фрося всего только пятиклассница. Матвей копейки ей давал иногда на детское кино в дневные сеансы.
Фрося, как окончила школу, вышла замуж за фронтовика, у которого умерла жена. И родила от него четверых. Сейчас они в Горно-Алтайске, фронтовику дали однокомнатную.
Фрося работала в совхозной столовой. Доставляла наготовленное на телеге механизаторам в поле. Разведёт костерок где в затишье, термосы у неё, фляга с водою, всё у неё по-домашнему, вкусное, и ждёт.
И вот однажды в ложке солнечном, под берёзою ещё недораспустившейся, после обеда, когда они остались вдвоём, Фрося вдруг призналась: «Не могу, Матвей, не могу без тебя…» — «Ты чего это, — удивился Матвей. – У тебя семья, муж и дети, и у меня». – «Ну и что. Измучилась я…» — «Ничего у тебя шутки – половина в желудке».
Но Фрося так и не пересилила себя. И Матвей не мог ей отказать. Как стемнеет, приходила она на край поля и ждала. Безошибочно узнавала огни матвеевского трактора. Много тракторов, скрывалась от них как-то, не дай бог увидят. Холодноваты ночи в раннюю весну, втискивалась в кабину вся продрогшая. Недолги их свидания – самый разгар весенне-полевых работ. Не забыть Матвею — приходилось стаскивать на землю вонючее сиденье… И после Матвея всю ночь болтало, даже ударяло обо что в кабине, голову нет сил держать, глаза смыкаются, хоть спичку вставляй в веки. Но трактор нельзя останавливать, когда еще столько заработаешь. А как иначе-то: детишек надо кормить и Тимофеевну свою, чтоб она не почуяла, надо любить еще шибчее. Руки, ноги по привычке вели трактор, и удивительно то, что утром в черноте пахоты не найдешь ни клочка огреха. Иногда казалось ему, что в руках у него не рычаги, это две тяжелые косы Фроси. Водит он их, водит… Но в рассвет становилось совсем невмоготу: сползал Матвей из кабины, сваливался на землю и, как убитый, отключался минут на пять. Иначе не сдать ему трактор и плуг напарнику, не указать ему, где подрегулировать, где смазать или подтянуть…
И Матвей рассказ свой окончил тем, что притопнул ногами и спел:
Тракториста я любила,
Тракториста обняла.
Цельный месяц титьки мыла,
Цельный год солярой пахла.
***
Не знаю, подходили ли ещё Матвей и его спутница к тумбе под моими окнами. Но однажды проходил, — люблю я там прогуливаться — где сливаются реки Майма и Улалушка, тут увидел их: на песчаной отмели развели костёр и варили что-то в клокочущем казанке. Матвей суетился, ломал об колено хворост, а спутница сидела такая довольная, хотя ей и неудобно сиделось на коряге, любо ей смотреть на Матвея.
Я хотел было подойти, но зачем мешать счастливым. Да ещё, какой я знакомый, подумаешь, несколько дней лежали в одной палате. А вот Фрося ли она? Возможно, она и есть, но возможно, что и совсем другая женщина. И тут, кстати, мне вспомнился рассказ, подслушанный мною на «армянском» базаре.
— В нашем дому умер фронтовик, — рассказывала одна старушка другой. – Женка осталася однёшенька. Сидела она в горюшке, сидела, и вот что взбрело ей на ум: продам, думает она, однокомнатку, а денежки поровну раздам детьям. Их у ей четверо. А сама она месяц поживет у одного, месяц — у другого или у другой. Так и будет жить… И сейчас она, бедненькая, поняла. Всё поняла… Ведь она у себя была хозяйка. Сама себе хозяйка. А у детей, хотя и родила их, — этого не делай, это не трожь… Жди, когда подадут и что подадут. Да еще сноха там или зятья…
«Та «бедненькая», может, и есть Фрося?» — подумалось мне. Может, конечно, может, но может и не быть». Ещё подумалось: «Прожили они жизнь, и всю жизнь на уме было только одно: «Дети, мои детки». Для детей и жили, из-за них и жили. И вот тебе на, пришло им на ум: «А что, если чуток из-за себя? Позабыть про детей? Освободиться от них, отдохнуть? Для самих себя пожить остатки?»
Вскоре вокруг всё пожухло, опало, посерело, стало холодновато. Заветрило, пошли дожди. И Матвей и его «шмара» больше мне не встретились. Куда они делись? Что стало с ними? Может, Николаша освободил для них мастерскую, бывшую баню, и они там? Или уехали в свою далёкую, но родную деревню? А может, возобладало извечное: «Дети, мои детки», и они расстались, возвратились на круги своя?.. По-моему, это уж точно, победило последнее. А может, и не так…
«Дети, мои детки, дети, мои детки. Дети, мои детки…»
Месяц кандык (апрель), год Дракона (2012), Улала.